You have no items in your cart.
Отзыв-опровержение Ольги Рахальской на интервью Виктории Вайнберг Елизавете Блюминой
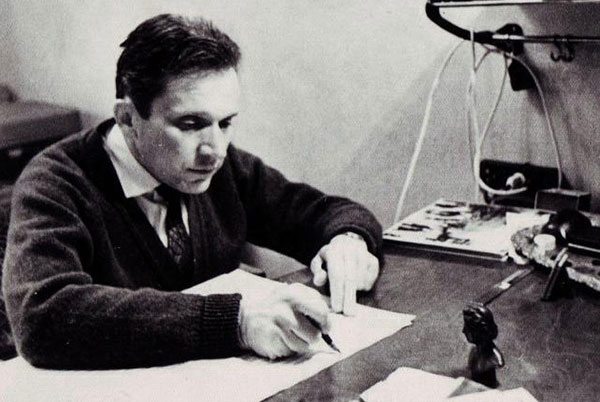
26 февраля 2016 года, в 20-ю годовщину смерти выдающегося композитора Моисея Вайнберга, на сайте Colta.ru было опубликовано интервью Елизаветы Блюминой с его дочерью от первого брака Викторией Вайнберг, проживающей в Израиле.
Инициатором публикации текста интервью, ранее прошедшего на Радио Культура Германии (Victoria Weinberg im Interview, Deutschlandradio Kultur, 24.10.2015), стал московский музыкальный критик Илья Овчинников, подготовивший публикацию.
Некоторые рассуждения и оценки В. Вайнберг, касающиеся личной жизни ее отца, вызвали неоднозначную, в основном негативную реакцию пользователей Facebook.
Публикуем ответ вдовы композитора Ольги Рахальской-Вайнберг на публикацию Colta.ru, присланный в редакцию газеты «Музыкальное обозрение».
Также публикуем фрагменты писем композитора второй жене Ольге Рахальской опубликованные в 2000 году.

Отзыв-опровержение Ольги Рахальской на интервью Виктории Вайнберг
Прочитав интервью Виктории Вайнберг, которое она дала Елизавете Блюминой, я вынуждена ответить на многочисленные обвинения. Начну с цитаты (это последний абзац ее интервью):
«Вся его история поражает драматургией. Когда моего отца арестовали в 1953 году как зятя Михоэлса, он сидел в Бутырской тюрьме. И, когда он вторично женился, оказалось, что его новая теща работала в Бутырке врачом-психиатром. Квартира тещи, где он поселился вместе с новой женой, находилась при Бутырской тюрьме. Как-то раз папа мне сказал: «А ты знаешь, как забавно: окна моей квартиры выходят именно на ту камеру, где я сидел». Там он жил, в той квартире, пока они не переехали в композиторский дом на Студенческой. Он был похоронен по православному обряду и лежит под крестом в одной могиле со своей тещей, работавшей в Бутырской тюрьме, где он сидел по обвинению в буржуазном национализме».
Да, драматургия поражает. Только автором ее является не жизнь, не судьба, а сама Виктория с ее мифотворчеством.
Я бы и оставила все как есть в этом изящном рондо. Тем более, что в нем так искусно переплетены правда с ложью, что распутать это плетение очень нелегко. Готова предположить, что Виктория не лжет, а что-то путает, – ведь речь идет о событиях пятидесятилетней давности, вот память ее и подводит. Повторяю, я бы не стала отвечать на этот «сюжет для романа для горничных», даже несмотря на то, что мой образ немного выбивается стилистически из общей системы в сторону индийского кино: злодейка, которая морит голодом больного мужа, насильно его крестит, чтобы не тратиться на похороны, а потом опускает бесплатный гроб с телом мужа в могилу тещи, да еще и под крест. Скажу честно, прочитав все это, я на минуту усомнилась, все ли в порядке у Виктории с рассудком. Но надеюсь все-таки, что да.
Итак, я бы оставила этот маленький шедевр без комментариев, но, поскольку в нем фигурирует моя мать, я вынуждена внести кое-какие поправки.
Виктория утверждает, что после того, как ее отец на мне женился, оказалось, что его теща работает в Бутырской тюрьме психиатром. (На память сразу приходит «карательная психиатрия»). Во-первых, кем и где работала моя мать, Надежда Александровна Гринчар, Вайнбергу было известно лет за 6 до того, как он на мне женился. Во-вторых, не знаю, была ли в Бутырской тюрьме такая должность, но теща Вайнберга не занимала ее ни дня, ни часа. В-третьих, мы якобы жили в квартире «при Бутырской тюрьме». Наверное, это должно означать, что руководство тюрьмы выделило моей матери квартиру за доблестный труд. На самом деле, мы жили не в квартире «при тюрьме», а в доме напротив. Этот дом смотрел своими окнами на тюремный двор. Видеть свою бывшую камеру из окна квартиры Вайнберг не мог. Он просто рассказал дочери старый анекдот: «Раньше я жил напротив тюрьмы, а теперь живу напротив собственного дома». В его случае выходила инверсия: «Раньше я жил напротив собственного дома, а теперь напротив тюрьмы». Но Виктории с ее образным мышлением очень хотелось приравнять жизнь отца в новой семье к тюремному заключению. Кстати, в «тюремной квартире» обед ему готовили тоже. Поскольку Виктория сообщает, что после развода родителей отец продолжал жить, работать, обедать и играть с котом в своей первой семье, а к новой жене ходил только «ночевать», то я с трудом могу себе представить, как он ежедневно справлялся с двумя обедами.
С другой стороны, он действительно старался как можно больше видеться с дочерью и бывшей женой, ведь они должны были скоро уехать навсегда. Но Вайнберг не ушел бы из семьи только ради того, чтобы «ночевать» с новой женой.
Снова прибегаю к цитате, речь в ней идет обо мне: «…бедная молодая студентка, уже неудачно побывавшая замужем и жаждущая любой ценой, не брезгуя никакими методами, прорваться в другое социальное измерение. Это я привела ее в наш дом, поверив ее жалостливым рассказам о бедственной участи». Я долго ломала голову, чем же я могла так разжалобить Викторию, что она подобрала меня, как бездомную собаку. Я ведь вроде особенно несчастной себя не считала. Однако ей кажется, что я проникла к ней в дом с целью «прорваться в другое … измерение». Я туда проникла только потому, что мы вместе учились и подружились. А что будет дальше, никто не знал. То, что было дальше, вовсе не обернулось ложью и двойной жизнью. Вайнберг не обманывал жену. Как только он осознал свое отношение ко мне, он сразу ей об этом сказал, а я, разумеется, перестала бывать в их доме. Когда же я впервые в этом доме появилась, у меня не было никаких мотивов, кроме желания общаться с понравившейся мне девочкой. Зачем мне было рваться в «другое измерение», если мое «измерение» было ничем не хуже, чем ее. Я выросла в среде очень уважаемых и известных в научном кругу людей. Они были в высшей степени интеллигентными и интересными: это – профессоры, в основном, медики, но были и искусствоведы, художники, филологи. Моя мать, графиня и по отцовской, и по материнской линии, психиатр, большую часть жизни проработала заведующей одним из отделений больницы Кащенко (теперь – больница имени Алексеева). Должна сказать, что, если бы она была дочерью извозчика и работала уборщицей на вокзале, ни хуже, ни лучше она бы от этого не стала. О ее происхождении я здесь упоминаю только для того, чтобы подчеркнуть, что рваться из помойки, в которой я якобы сидела, у меня не было причин. Разве что бедность, о которой сказала Виктория? Но об этом – чуть позже. Мама была таким прекрасным, добрым, самоотверженным человеком, что никто никогда не сказал о ней дурного слова. А теперь вдруг выясняется, что и лежать с ней в одной могиле – позорно…
Маленькая справка для тех, кто не помнит или не знает реалий советской и постсоветской жизни. Похоронить человека в нашей стране было не только дорого, но и негде. Свободных могил не было. О старых кладбищах и говорить нечего, а на новых – могилы были рассчитаны на три захоронения. Поэтому подавляющее большинство советских, а теперь российских умерших людей лежит в могилах со своими родственниками. Что здесь может шокировать, я не совсем понимаю, ведь издревле существуют фамильные склепы и могилы. Но, видимо, в интерпретации Виктории, кощунство здесь состоит не в том, что отец лежит в общей с кем-то могиле, а в том, с кем именно, то есть с тещей из Бутырской тюрьмы.
Объясню, откуда берет начало миф о «тюремном психиатре». Когда мама перенесла тяжелый инфаркт, она была вынуждена перейти на работу более спокойную, чем в психиатрической больнице. И она несколько лет работала во врачебной комиссии, состоявшей из врачей разных специальностей. Эта комиссия занималась определением группы инвалидности в соответствии с состоянием здоровья работников милиции. Как и милиция, эта комиссия принадлежала к ведомству МВД. Ни к карательной психиатрии, ни к КГБ эта работа ни малейшего отношения не имела. Но Виктория, конечно, не могла творчески не переосмыслить эту деталь.
Я еще ничего не сказала о своем отце, Юлии Егидовиче Рахальском. Он тоже был психиатром, профессором, доктором наук. Мои родители разошлись, но оставались в дружеских отношениях. Я часто виделась с отцом, мы всегда поддерживали связь, и, кстати, с Вайнбергом они друг другу были очень симпатичны и интересны. О своем тесте муж говорил мне, что даже среди музыковедов редко встречал людей с такими глубокими познаниями в музыке.
Теперь о бедности, которая могла бы толкать меня любыми средствами рваться к богатству. Я была не очень-то бедной – так, что-то среднее. В те времена бедность была нормой. Богатым, например, считался человек, у которого была дубленка. А в чем состояло богатство Вайнберга? У него не было ни дубленки, ни машины, ни дачи, ни квартиры. Единственная роскошь, которую он себе позволял, – это использование такси вместо общественного транспорта. У него очень болел позвоночник, и выносить давку было выше его сил. Зачем бы он столько лет ютился в однокомнатной квартире вместе с тещей, женой, маленьким ребенком, котом и собакой, если при наличии денег было очень просто купить кооперативную квартиру. Но вот этого-то «наличия» как раз и не было… Трудно не согласиться, что для хищницы такая добыча мелковата.
Потом Вайнбергу дали две комнаты в коммуналке на Студенческой. Третью комнату занимала семья из двух человек. Тогда все та же теща отдала свою квартиру в обмен на эту комнату, и наша семья переехала в трехкомнатную квартиру.
Мысли, что в ее отца можно было влюбиться, Виктория не допускает. И в самом деле, из того, как она характеризует отца, сквозь милый юмор проступает личность не слишком привлекательная. Это – абсолютно нравственно невменяемый человек, что-то вроде городского дурачка, которого жена всюду водила за ручку. Потом появилась молодая вертихвостка, которая за другую ручку потащила его в свою сторону. А разве раньше ему красивые «вертихвостки» не встречались? На киностудиях, в оркестрах, в балете, в цирке, где он много работал. Мог бы, наверное, и с ними «ночевать». Но, видимо, бывает и нечто другое, из-за чего люди соединяют свои жизни, даже причиняя страдания другим и себе. Но это – не предмет обсуждения с посторонними людьми. Иногда в воспоминаниях Виктории отец больше похож на умственно отсталого, а иногда – не то на психопата, не то на шизофреника (страдал «многочисленными фобиями», приходил в мирное время на вокзал за три часа до отхода поезда, опасаясь, что «пойдут танки»). Этот образ Виктория рисует для того, чтобы внушить (в первую очередь, себе самой), что такой, как он, мог быть только жертвой, а такая, как я, – хищницей. Но в любви – два хищника, они же – две жертвы.
Образ инфантильного гения, не отвечающего за свои поступки в силу того, что, кроме музыки, ничего не понимает, мало отражает личность Вайнберга. Человек, с 13 лет содержавший семью (в Варшаве), по ночам работавший тапером, человек, который в тюрьме, где его пытали тем, что не давали ему ни минуты сна, направляя ему в глаза луч фонаря, не подписал ни одного доноса, надо думать, был знаком с чувством ответственности. Ближе к его сути – слова, сказанные о нем в одной статье его другом, композитором Львом Солиным: «Могучий дух в хрупком теле».
Тот, кто действительно хочет проникнуть в душу Вайнберга, высокую и благородную, может послушать его музыку. Она расскажет о нем больше, чем семейная склока или воспоминания мало что помнящих людей.
Теперь – ответ на упрек, почему я не работала. Это не совсем так: я работала до рождения дочери. Потом она стала непрерывно болеть, так что школьную программу ей приходилось осваивать дома. В школу она выходила исключительно для того, чтобы чем-нибудь заразиться и снова заболеть. Заниматься с ней приходилось мне.
Кроме того, у меня было очень много обязанностей по отношению к мужу: те, которые исполняла его первая жена (о чем говорит Виктория), но еще и другие, гораздо более тяжелые – это обязанности медсестры и сиделки, так как муж тяжело болел много лет, а последние три с половиной года был прикован к постели. Как же я при всем этом могла бы найти время и силы, чтобы еще ходить на работу? Все эти обстоятельства Виктории известны, и ее упрек в том, что я не работала, мне очень странен.
Виктории также известно, что ее отец в своей второй семье был окружен заботой и вниманием, и миф, что его не кормили и до него дела никому не было, – все из того же «романа для горничных».
Когда Виктория приезжала в Москву и приходила к отцу, в нашем доме был праздник: мама пекла «Наполеон», сбивалась с ног, чтобы получше ее угостить, сестра ей радовалась, и сама Виктория была мила и приветлива.
Теперь же оказывается, что ее все «приводило в ужас», включая папино «жуткое» пальто. Я сама же и жаловалась Виктории, что не могу уговорить мужа сменить это пальто, так как оно тяжелое. Он же отвечал, что так редко выходит из дома, что пальто ему практически не нужно.
Почему же Виктория, видя все эти «ужасы», до сих пор молчала? А теперь, когда отца давно нет на свете, и он, что бы о нем ни говорили, уже ничего не может ни возразить, ни подтвердить, она решила, что «пришло время».
Сведения о том, что Вайнберг последние три месяца своей жизни ничего не понимал, совершенно неверны. Виктория ссылается на то, что Анна сказала ей об этом в Брегенце. Анна это отрицает. Впрочем, если послушать Викторию, ее отец не то что три месяца, а вообще никогда и ничего не понимал.
Решение креститься Вайнберг обдумывал около года. Я по его просьбе читала ему Евангелие. Еще он очень любил стихотворение Бродского «Сретенье». Он сказал, что сообщит о своем решении в день своего рождения, восьмого декабря. Но в конце ноября, не дожидаясь дня рождения, он попросил, чтобы его крестил один знакомый священник. Я позвонила ему, и мы договорились о крещении, но он долго не мог к нам выбраться, так как был очень занят. Через месяц я снова позвонила ему и сказала, что медлить уже нельзя – состояние мужа ухудшается.
Вайнберг крестился в здравом уме и умер в полном сознании. За пять минут до смерти он попросил меня читать Евангелие. Потом сказал: «Водички», немножко попил и умер.
Крестить человека против его воли, воспользовавшись тем, что его сознание повреждено, действительно кощунственно и грешно. Кому же нужно такое крещение? Ах да, я и забыла: мне, чтобы бесплатно похоронить мужа. Не знаю, от каких «близких папиных друзей» Виктория получила такие сведения, но это – абсолютная глупость. Похоронами занимается не церковь, а совершенно другие учреждения, причем отнюдь не бесплатно. Церковь же оказывает материальную помощь совсем не в нашем случае: мы все-таки не настолько бедствовали, чтобы обращаться за помощью в церковь или стоять на паперти с протянутой рукой.
Мы не оставались без помощи – нам помогали музыканты: О.И. и В.И. Федосеевы, И. А. Шостакович, М. Рахлевский, А. Раскатов, японский музыковед Юкихиса Мияяма. Я прошу извинить меня тех, кого я могла забыть назвать. Лечение, на которое собирали деньги музыканты, к сожалению, оказалось бесполезным, но я всегда буду благодарна людям, которые нам помогали.
Вынуждена коснуться еще одного деликатного вопроса: я услышала по интернету мнение, что Вайнберг очень обидел свою первую семью своим несправедливым завещанием, в котором он не включил в число наследников старшую дочь. Далее было высказано предположение, почему он этого не сделал. Предположение не совсем верно. На самом деле, все очень просто: он был уверен, что после его смерти делить будет нечего. Мне было неприятно услышать, что он понял свою несправедливость, но менять ничего не стал. Если бы он ее понял, то переписал бы завещание, потому что он был человек весьма щепетильный, и времени на это у него было достаточно, так как завещание было написано за много лет до смерти. Если вернуться к образу «злодейки из индийского фильма», то, по всей видимости, такое завещание навязала ему я под угрозой уморить голодом. Я увидела это завещание только после смерти мужа, и никакого влияния оказать на его содержание не могла, так как мы с мужем об этом никогда не говорили, – он по причине, названной выше, а я – еще и из-за суеверного ужаса перед словом «завещание».
Он же меньше всего хотел обидеть свою первую семью, а, наоборот, думал, что старшая дочь сможет чем-то помочь младшей. Как-то умирающий муж, на которого уже без слез было невозможно смотреть, обратился к Виктории: «Доченька, когда меня не будет, не оставляй Аню, не забывай ее». Каким же ответом Виктория утешила отца? Она пожала плечами и с раздражением бросила: «Я, может быть, сама сдохну». Думаю, что она не помнит и этого.
Первая жена Вайнберга разделила с ним годы репрессий, когда смерть ходила за ним по пятам пять лет. Победила жизнь: в 1953-м году его выпустили на свободу.
Я разделила с ним годы болезни, когда смерть ходила за ним 15 лет. Победила смерть: в 1996-м году он умер.
Свою последнюю симфонию он посвятил мне.
В двадцатилетие смерти Вайнберга, 26-го февраля, в день его кончины, нельзя было лучше почтить его память, чем облить грязью дорогих ему людей, пройтись длинным и злым языком по его личным отношениям, залезть к нему в душу, заглянуть в могилу (как-то ему там лежится рядом с тещей?).
Только не лучше ли оставить наших мертвых «спать спокойно» под их крестами, звездами Давида или полумесяцами? И не тревожить их своими пересудами, сплетнями, дрязгами.
Ольга Рахальская, 24.03.2016
Письма о любви. Моисей Вайнберг — Ольге Рахальской
От редакции: Предлагаем вниманию читателя фрагменты писем Моисея Вайнберга своей жене Ольге Рахальской. Опубликованы в журнале «Музыкальная жизнь», 2000, № 1, «Письма о любви».
Композитор — это тот, кто умеет своим, непохожим на всех других светом осветить то, что в каждом из нас. Никакого значения не имеет «традиционализм», «авангардизм», «модернизм». Важно одно: твое.
И потому не спутаешь Чехова с Толстым, Э. По с Мопассаном, Рубенса с Рембрандтом, Бетховена с Григом (у него маленький, но свой мир).
Не понимаю, как все почти теперь хотят писать по рецепту, оставленному Шёнбергом. Это было естественно для него. Но для других? Зачем быть обезьяной? Это век ужасного обезличивания. Создается модель землянина. Культуры, как бы обогащаясь друг от друга, теряют свою неповторимость. Девушки хотят быть похожими то на Брижит Бардо, то на Мерилин Монро. Скоро, наверное, будет один, всеобщий, самый выгодный климат.
Ведь композитор — это не забава, это вечный разговор, вечный поиск гармонии в людях и природе. Этот поиск — смысл и обязанность нашего кратковременного прохождения по земле.
Сила или бессилие художника в том, сможет ли он выразить вечную, всем известную правду, озарив ее новым, своим светом.
Если да, тогда он — еще один кирпич в храме, если — нет, тогда он — резонер, который повторяет много раз пережеванную истину.
И тогда не помогут самые новейшие средства выражения, — хоть гвоздем «glissando» по голому заду.
Так ужасно обидно, что не удалось приехать к тебе, твое описание Крыма так привлекает к нему… Что касается цикад, я их никогда не видел, а слышать слышал: подражание им в кантате на тему пансионата в Курпатах «Бюрократиада» Р. Щедрина. Там в партитуре есть указание: «Надо ногтем быстро проезжаться по зубцам расчески — подражая звукам цикад». Вот это я слышал. Такую цикаду. Попробуй сравнить натуральный их звук с искусственным.
…У меня много работы с Тодоровским, в конце месяца начинаются записи. Кроме того, из Рыльска звонил Вульфович, придумал новый эпизод, в котором отряд эсэсовцев распевает песню. Она должна быть максимально сентиментальной, вроде «Mein lieber Augustin». Я сегодня провел немало времени в фонотеке на радио, ища эту песню. Не нашел. Там есть немецкие джазовые записи последних лет (а песня должна быть не позже 42-го года), и песни Ротфронта. Так что я должен продолжить поиски, а когда найду, поискать несколько немецких студентов во ВГИКе (по-моему, все сейчас в отпуске) и записать ее на Мосфильме. Конечно, раньше я должен ее списать на потную бумагу, а кто-то знающий немецкий текст — списать его.
Чую, что повожусь с этой режиссерской находкой…
… Самая гадкая нынче погода. Накрапывает очень редкий, большими каплями дождь, ужасно низко висит туман, а температура 27. Парит. Я представляю себе, что эта погода казалась бы мне наикрасивейшей, если бы ты была рядом…
…Удрал с записи. Вот как это получилось: в 15.20 все собрались. Руководил этим немецкий диктор из радио Эрнст Эрнстович Кнауз-Мюллер. Он привел с собой пять молодых немцев, и они начали петь песню «Лили-Марлен». Не надо было давать указания, что в картине это поет эсэсовский взвод после пьянки, фальшиво и нестройно: они сами по себе пели еще ужасней, чем нужно. И здесь начали им давать советы все кому не лень. Помощник режиссера, звукооператор, заместитель директора по хозяйственной части, музыкальный редактор и т. п. Имея субординацию в крови (ordnung), они, послушно стараясь «раскрыть образ», «подчеркнуть протест», «грусть передать весельем», «весельем подчеркнуть трагизм», «удалью —слабость» и идя навстречу пожеланиям, подняли невообразимый вон. Я сказал, что меня ждет врач, и убежал…
…Последние две недели все думаю об одном сочинении: «Девочка со спичками» Андерсена. Потрясающая по глубине, образности и доброте сказка. Очень бы хотелось ее переложить на музыку. Туманно маячит детский хор и небольшой по составу оркестр. Но когда, когда взяться за это?..
…Забыл тебе сообщить, что с «Мухой-Цокотухой» ничего не вышло. Меня это и огорчает, и радует. Огорчает только потому, что я тебе обещал написать такой балет. Радует, потому что я просто не представляю себе, где надо было бы украсть время для работы над этим сочинением.
А произошло следующее: театр оперы в Душанбе предложил войти в договорные отношения только после написания балета. С таким я еще в жизни не встречался нахальством. Чтобы выполнить обещание, данное тебе, я бы согласился писать даже при этих унизительных условиях, но эти условия не устраивают либреттистов (Эппеля и еще одного), и я, разумеется, уговаривать их работать бесплатно не могу…
…Благодаря этому я представляю собой ужасно заурядную личность. А быть композитором (в высоком смысле этого слова) и не быть личностью, значит не быть композитором.
Не думай, что я подразумеваю под определением «быть личностью» — обращать на себя внимание разными экстравагантностями, как, допустим, Сальвадор Дали, — ничуть.
Личность —это тот, кто в ежедневном быту, в общении с людьми излучает что-то такое, что делает его приметным, неповторимым, влияющим на окружающих.
Личность — это также тот, кто в своих поступках отличается от других (не потому, разумеется, что он оригинальничает, а потому, что он не боится идти дальше, к сути, которой многие из-за своей заурядности и инфантильности не видят), и своим сочинениям он придает свою, личную, единственную окраску, которой у других нет. Так что только полное, гармоничное единство таланта в ремесле и незаурядности в личности создает сплав по имени «творец».
А обладатели только одного из этих качеств называться этим именем не могут. Такое мое мнение.
Притом не думай, что поведение «личности» — это обязательно поведение, полное динамики, мускулов, активности, — зримо ощутимый плакат. Речь шлет о духовной активности, которая может проецироваться на многое и многих, внешне сохраняя полную пассивность.
Все эти мысли — не грустные. Я знаю, никому не дано ни сделать, ни прожить больше, чем отпущено. И я не корю себя за то, что у меня что-то не получилось.
Я-то знаю, что личностью (как и композитором), надо родиться, а «вводить» ее в себя путем инъекций —- смешно, бесполезно, и всегда будет заметна фальшь.
А возможно, мне просто не пишется, и вот я придумываю всякую чушь. А не пишется потому, что имею право на усталость, потому что скучаю по тебе, потому что жарко, душно, потому что читаю грустные рассказы Брэдбери, и потому что в действительности что- то у меня не получилось. Но разве только у меня? Так что не надо унывать
…Любимая! Пишу с почты. Только что получил твое письмо. Я просто убит: пневмония и какой-то неизвестный мне пневмосклероз. Какой ужас! Буду звонить Александру Николаевичу, чтобы узнать, что это такое.
Дай Бог, в Дилижане все пройдет. 9-го должны быть билеты. Я ведь часто говорил: «Олечка, сделай рентген». Как я тебя жалею! Как причел письмо, сжалось что-то в горле и не отпускает. Ужасный дождь на дворе весь день…
Такая грустная картина — этот изолятор. Я не писал тебе потому, что не проходит мозоль на пальце, а я уже работаю.
Написал две части для Баршая. Это будет камерная симфония. Умоляю тебя дать мне сразу после получения этого письма телеграмму о здоровье.
Бедная, бедная моя жена. Я бы дал себе отрезать ухо, нос. палец ноги, чтобы ты была здорова.
Любимая, ты обязана во всем меня слушаться, а не шуткой уклоняться от моей заботы…
…Сегодня I сентября. 26 лет тому назад началась война. Мне было 19 почти лет. Через четыре гола ты должна была родиться. Кончался первый период моей жизни. Мне предстояло еще раз родиться для новой, иной жизни. Как пылинка, я был втянут в чудовищное вращение кровавой машины времени, все нити, связывающие меня с семьей, юностью, пианизмом, должны были быть оборваны, я чудом должен был остаться з живых, и на закате моей жизни должна была появиться ты — Олечка моя.
Я вовсе не хочу предстать перед тобой в ореоле чего- то необычного, — сохрани Бог, К сожалению, судеб, схожих с моей, было безмерно много. Увы! И если я считаю себя отмеченным сохранением мне жизни, то это вызывает во мне такое чувство невозможности оплатить долг, что никакая двадцатичетырехчасовая, ежедневная, каторжная сочинительская работа не может меня даже на дюйм приблизить к границе этой оплаты.
…Написал сегодня часть к симфониетте. Послушай, на какие стихи (soprano solo):
«Будет ласковый дождь, будет запах земли
Щебет юрких стрижей от зари до зари.
И ночные рулады лягушек в прудах.
И цветение слив в белоснежных садах:
Огнегрудый комочек слетит ни забор.
И малиновки трель выткет звонкий узор
И никто, и никто не вспомянет войну:
Пережито, забыто, ворошить ни к чему,
И ни птица, ни ива слезы не прольет,
Если сгинет с земли человеческий род.
И Весна… и Весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет».
(Сарра Тисдейл. «Будет ласковый дождь» — ред.)
Это, Олечка, про прощание, о чем я тебе уже писал. Нравится?.

